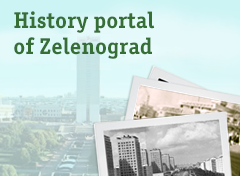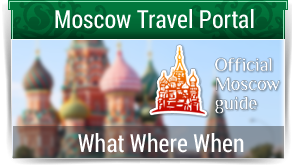«От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.»
11 июня в среду, в преддверии Дня России, на Зеленоградском городском кладбище состоялось торжественное захоронение недавно найденных останков бойца стрелкового дивизиона Алексея Ивановича Хотеева.
Эта новость затронула меня в наибольшей степени. Ведь Хотеев Алексей Иванович — мой прадед.
Тот самый вечер не предвещал ничего необычного. Традиционный ужин, посиделки у телевизора и
Нечасто увидишь на глазах отца слёзы. Сегодня был как раз такой день. Невероятная радость и гордость переполняли меня. И всё это благодаря человеку, упорно и бескорыстно пытавшемуся отыскать нас. По его словам, нам безгранично повезло: вероятность того, что медальон сохранится и информация о проживании родственников будет актуальной, ничтожно мала. Мой прадед, как и все его семья родился и проживал в посёлке Ржавки. Именно сохранившееся название этого населенного пункта значительно облегчило поиски. Прадедушка пропал в самом начале войны. Думали ли мы, что он вернется к нам? Такая радость не только у нас. В последние годы всё больше пропавших бойцов находят и возвращают домой спустя почти ¾ века! А посему, не отчаивайтесь. Чудеса случаются, и событие в нашей семье — тому подтверждение.
Мне посчастливилось побеседовать с тем самым человеком, который вернул нам нашего дедушку — Игорем Николаевичем Находкиным.
— Как давно вы занимаетесь поиском погибших бойцов?
— Что подвигло Вас на поиски? Гражданский долг или личная заинтересованность? Быть может, Вы хотели найти своего пропавшего родственника?
— Нет, отнюдь не личная заинтересованность. Хотя, по рассказам бабушки, из нашего рода на войну ушли 26 человек и 19 так и не вернулись домой. Началось всё с ознакомительной поездки в Смоленскую область. Там проходила
— Часто ли удается разыскать родственников погибших героев? Сколько по времени могут длиться эти поиски?
— Статистика выглядит следующим образом: среди всех найденных бойцов у 10 процентов удаётся установить имя. У 5 человек из оставшихся 10 процентов удаётся найти родственников. Почему такое происходит? За прошедшие 73 года людей переселяли, они переезжали сами. Могло случиться и такое, что в те года область была одна, сейчас уже совсем другая, архивы уже уничтожили. Огромный плюс для современных поисков — социальные сети.
— Занимаетесь ли Вы раскопками непосредственно мест бывших военных действий или также, к примеру, массовых катастроф, расстрелов, лагерей военнопленных?
— Мой отряд занимается именно раскопками мест военных действий. Но есть и отряды, которые выезжают на территории бывших концлагерей в пределах Российской Федерации и там ведут работы.
— На каких территориях Вы вели раскопки в последнее время?
— В основном, это была Смоленская область. Также мы работали на территории Тверской, Новгородской, Ленинградской, Курской областей.
— Не испытываете ли Вы определенного рода дискомфорта, имея дело с останками мертвых людей? Бывает ли Вам страшно?
— По этому поводу общались недавно с моими коллегами, которые уже не один год ведут раскопки. На самом деле, страшно то, что когда откапываешь бойца, благодаря первоначальным знаниям анатомии удается установить его приблизительный возраст. И ты понимаешь, что многие бойцы годятся тебе в сыновья. Вот, что действительно страшно.
— Помимо костей, в земле Вы находите различные предметы, личные вещи погибших. Что происходит с ними? Вы направляете их в музей?
— Если имя бойца
— Опишите, пожалуйста, сам процесс Вашей работы. Используете ли Вы
— Стоит в первую очередь упомянуть о том, что перед непосредственным процессом раскопок ведется огромная предварительная работа. Люди ведут работу в архивах и определяют места военных столкновений. После этого решается вопрос о формировании экспедиции в то или иное место. С собой мы берем определенное оборудование: миноискатели, шипы, естественно, лопаты. Процесс проходит следующим образом: впереди идут люди с миноискателями. Именно с помощью миноискателя мы пытаемся вначале определить места захоронений. Также нам очень помогает рельеф местности. Бойцов, в основном, хоронили в воронках. Даже если их и хоронили в канавах, присыпая землей, когда тело истлевало, над ним образовывался определенных провал и воздушная прослойка. По всем этим признакам мы находим необходимое место и берем щуп, примерно 1,5 метра длиной. Этим щупом мы «прощупываем» место. Если он идет туго, потом попадает в пустое пространство и снова во
— Бывало ли такое, что в процессе работы Вы находили мины, не сработавшие боевые снаряды?
— Сплошь и рядом. Эхо войны всплывает постоянно. Люди подрывались и не раз. Именно поэтому, если мы натыкаемся на запасы снарядов или мины, мы стараемся ничего не трогать. Поддержку нашей экспедиции оказывают и органы местного самоуправления, МВД и МЧС России. Поэтому и обращаемся к ним за помощью. Мы отмечаем найденные опасные места, сообщаем об этом в МЧС. Далее сотрудники службы выезжают и осуществляют либо подрыв на месте, либо перевозят снаряд на безопасное расстояние.
— Занимаетесь ли Вы раскопками круглый год или в Вашей работе присутствует сезонность?
— Круглый год. Конечно, зимой работ в полях чуть меньше. В основном, в это время люди работают в архивах. Но если попадаются интересные случаи, мы все равно выезжаем. Например, зимой очень удобны работы на болотистой местности. С одной стороны, конечно, тяжело продолбить весь лед, но, с другой стороны, туда хотя бы можно залезть.
— Что, на Ваш взгляд, самое трудное в работе ведущего раскопки человека?
— В принципе, мы все получаем достаточно сильные эмоциональные нагрузки. Я знаю много людей и могу с уверенностью сказать, что никто не может стоять спокойно, когда, допустим, происходит передача останков родственникам. Когда они более чем через 70 лет возвращаются в семью, это хватает за душу.
— Бывает ли такое, что Вы нашли родных погибшего, но они отказываются от останков? Как Вы думаете, с чем это связано?
— Бывает. Случаи, конечно, единичны. Проанализировав эти случаи, я пришел к выводу, что в основном это связано с материальным благополучием семьи. Если, скажем, боец призывался из глухой деревни, а в настоящее время она и вовсе заброшена. Люди, в основном, подвержены там одному и тому же пороку — пьянству. Бывало такое, что останки передавали семье алкоголиков, но они честно говорили, что им они не нужны. Тем не менее, останки все равно захоранивали на территории этого района при поддержке главы местного самоуправления. Причем, бывало такое, что на подобных ритуалах присутствовали жители всей деревни, а то и близ лежащих деревень, а родственники оказались в стороне.