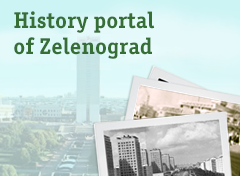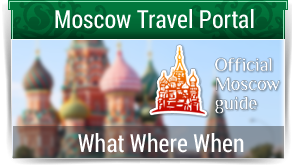8 февраля в России будет отмечаться День науки. Зеленоград традиционно с момента образования считался городом ученых. О том, справедливо ли до сих пор это утверждение, а также о перспективах отечественной науки рассказывает гендиректор НТ-МДТ и и.о. директора в НИИФП им. Лукина Виктор Быков.
– Потенциал Зеленограда как научного центра, безусловно, сохранился. В свое время была заложена очень правильная концепция: собрать самых трудоспособных, самых энергичных со всей страны, чтобы они работали над прорывными задачами, причем не вообще над высокими технологиями, а над теми задачами, которые максимально быстро позволяют получить готовый продукт, именно тот продукт, который тогда был нужен – это микроэлектроника. Он и сейчас нужен.
– Виктор Александрович, как вы считаете, сможем ли мы когда-нибудь делать продукцию мирового уровня в таких областях как электроника, микроэлектроника?
– Да не просто сможем, мы ее уже сейчас делаем. Тут необходимо рассматривать вопрос в комплексе. Микроэлектроника, наноэлектроника – это комплексная вещь. Очень много всего должно быть соблюдено для того чтобы на выходе получилась микросхема с теми проектными нормами, которые сегодня считаются в мире хорошими.
Сейчас в России строятся заводы с проектными нормами 90 нм, и это хорошо, что они строятся. Еще не так давно 120 нм было, что тоже считалось очень хорошими достижением. На момент, когда Советский Союз начал распадаться, замахивались на 180 нм, т.е. 90 нм в этом ряду – очень хороший показатель.
Но на фоне мирового уровня Россия занимает далеко не лидирующие позиции. Для стран, в которых интенсивно ведутся научные и технологические разработки, 90 нм – это все-таки уже не достижение. Так, INTEL использует заводские технологии с проектными нормами 22 нм, и в самых ближайших планах 15 нм, 10 нм. И, конечно, когда мы говорим о перспективах нашей российской промышленности, обязаны понимать, где находится планка. Делать то, что мы можем, но при этом понимать, что мы должны стремиться удерживать как минимум в каких-то направлениях мировой уровень.
– То есть что же получается, наше отставание тотально и безнадежно?
– Конечно, нет, ни в коем случае! Существуют отдельные направления, в которых ведутся разработки. И по каким-то направлениям наши разработки ничуть не хуже лучших мировых. В том числе есть определенные успехи, и достаточно значительные, в направлении наноэлектроники.
– Вы сейчас исполняете обязанности директора в НИИФП им. Лукина. Там есть какие-то разработки мирового уровня?
– Конечно, есть. Причем достаточно крупные проекты. Все они связаны с наноэлектроникой. НИИФП был выбран головной организацией по направлению «наноэлектроника в стратегии развития инфраструктуры для наноиндустрии». Он полностью способен выполнять эту функцию, особенно после серьезного обновления, которое сейчас происходит. В плане координации проектов есть сотрудничество и по линии Министерства промышленности и торговли, и по линии Министерства образования и науки, и по линии некоторых других ведомств.
Очень важно, как я считаю, это то, что усиливается инструментальная часть. Сейчас полным ходом идет интенсивное оснащение научного центра с использованием синхротронного излучения. Причем сам синхротрон претерпевает серьезную модернизацию. Фактически он превратится из источника СИ 3-го поколения в источник 4-го поколения. Это центр, в котором будут разрабатываться промышленные технологии для создания наноструктур. В перспективе устройства на базе таких наноструктур с проектными нормами, конкурентоспособными с мировыми, можно будет вывести на малосерийное и среднесерийное промышленное производство.
– Мы все время говорим: микроэлектроника, наноэлектроника… Виктор Александрович, можете объяснить, чтобы стало понятно, для чего в жизни нужны эти наноструктуры. Что это?
– Что такое наноэлетроника? Объясню. Например, у вас есть диктофон, в нем использованы микросхемы. Но диктофон – это очень простое устройство, в нем очень маленькие микросхемы и очень простенькие. А вот, скажем, компьютеры – там уже весьма сложные электронные устройства, это именно уже наноэлектронные устройства. Так, в современных компьютерах уже стоят чипы по технологии 45 нм. Дальше человеческая мысль не останавливается. Человек, по сути, существо ленивое. Он не любит делать лишних движений и думать не любит, поэтому создает технику, которая становиться все умнее и умнее.
Сейчас компьютеры узнают лицо, распознают голос. Следующее поколение компьютеров уже будет запоминать привычки своего хозяина. Или, скажем, «умный» дом может смотреть погоду в Интернете, а потом до нужной температуры подогревать воздух, поддерживать определенную влажность. Тот же пылесос ездит по комнате, натыкается на угол, на препятствие и останавливается. А «умный» пылесос будет обходить препятствия и собирать всю пыль в комнате.
Техника становится умнее. И для этого нужны специальные технологии наноэлектроники. Например, есть такие технологии на основе адаптивной логики, когда микросхема построена не по бинарному принципу как сейчас в компьютере: «да – нет» или «если – то», а устроена как сеть. Примерно так, как устроен мозг человека, как устроена логика мышления у человека и животных.
Конечно, пылесос не станет таким же умным, как человек, по крайней мере, в ближайшей время. Да это и не надо. А вот на уровне насекомого, мухи, скажем, вполне возможно. Но здесь тоже нужен достаточно мощный интеллект. Муха же быстро летит и ни на какие препятствия не натыкается. Если примерно такого уровня интеллект будет в пылесосе, то будет очень здорово. Для этого нужны микросхемы нового поколения. Мы здесь, в Зеленограде, планируем делать такие микросхемы, причем в ближайшее время.